Заговор Черного Сердца
Поддержать: boosty.to/blackheartconspiracy
Зарегистрировала канал в Роскомнадзоре.
Номер заявления: 4926690846
Реклама: [email protected]
Ютуб: 2М https://youtube.com/@lyapotanya
Last updated 1 year, 2 months ago
Как уход в оффлайн становится новой привилегией.
Совсем недавно доступ к Интернету был важным показателем экономического развития региона, а онлайн-скиллы давали вам целый ряд преимуществ, социальных и финансовых. Теперь даже в самых бедных регионах Африки мобильный Интернет есть у каждого пятого, а для большинства жителей мегаполисов по всему миру постоянное подключение стало не просто нормой, а жизненной необходимостью.
Для растущих легионов гик-экономики, занятых как в цифровой сфере (всевозможные фрилансеры, дизайнеры, копирайтеры, айтишники на краткосрочных контрактах), так и в оффлайн-профессиях (типа водителей Убера и курьеров Яндекса), постоянное нахождение в сети напрямую коррелирует с экономическим благосостоянием: отключиться значит пропустить заказ или проект.
У штатных сотрудников, особенно удалёнщиков, граница между рабочими часами и отдыхом постепенно размывается — быть на связи в нерабочее время совершенно обычное требование, не говоря уже про вечернее чтение рабочих чатиков «по привычке». В профессиях, которые раньше были не связаны с сетью, появляется целый ряд онлайн-активности (иногда почти круглосуточной): запись приёмов в гугл-доках, коммуникация с клиентами через мессенджеры и т.п.
При этом рой снующих по городу доставщиков на шайтан-машинах не обязательно говорит о том, что люди просто обленились или стали богаче — у некоторых работников, особенно проживающих в одиночку, тупо не хватает времени и сил на готовку. Включается стрёмный подсчёт — «полтора часа, которые я потрачу на поход в магазин и приготовление пищи, лучше потратить на работу» (потом такой подсчёт перекидывается на всё остальное). Учитывая перманентно растущую стоимость жизни, это не всегда показатель какой-то особой рациональности или, наоборот, жадности — просто колесо вращается быстрее.
Дешёвые шмотки и китайский ширпотреб в онлайн-магазинах, трэвел-блоги вместо путешествий, даже выбраться в выходные на природу из мегаполиса теперь настоящий квест — либо стоять полдня в пробках, либо задыхаться в переполненной электричке. Кажется, что жизнь оффлайн в целом становится всё менее доступной.
Чтобы иметь возможность отключаться от сети по своему желанию, ваши доходы должны либо вообще не зависеть от взаимодействия с цифровой средой и её посредниками (в мегаполисе таких возможностей всё меньше), либо ваших ресурсов должно хватать на оплату «права на отключение».
Техбро из Силиконовой долины уже выкладывают кругленькие суммы, чтобы ездить на ретриты по «цифровому детоксу», селебретиз передают ведение своих соцсетей командам специалистов, а президент получает «распечатки Интернета» в папочках. Для массового же человека полноценный оффлайн без постоянной оглядки на смартфон постепенно становится непозволительной роскошью.
Иллюстрация: Killeracid —DoomLife™.
(продолжение в предыдущем посте)Более того, создаётся впечатление, что Фридрих был хорошо знаком с идеями Техната и заочно с ними дискутировал. К примеру, это хорошо заметно в том, как он на протяжении всей книги доказывает, что дефицит — это вовсе не проблема финансового капитализма, а неотъемлемая черта, присущая современной технике вообще, и любой системе, выстроенной на её основе.
«Техника не может одарить нас нежданным изобилием. При любом, даже самом мелком, техническом трудовом процессе энергии затрачивается больше, чем производится. Каким же образом сумма этих процессов может создать изобилие?» (Совершенство техники).
Соответственно, и Технат, какой бы рациональной системой производства-распределения он не обладал, следуя логике Юнгера, будет создавать дефицит, а не изобилие.
Di0g3n в своей статье о Технате предполагает, что сегодня эти идеи вновь обретают особую актуальность в связи с развитием ИИ (и возможным скорым изобретением общего искусственного интеллекта — AGI), который сможет обеспечить ту самую автоматическую систему управления-учета-контроля-распределения, избавившись от иррациональности и ограничений, которые присущи человеческому начальству:
«Однако мы не может отрицать, что сейчас они [идеи Техната] имеют гораздо больше шансов на воплощение — с технической стороны, конечно, — чем 80-100 лет назад».
Но во всех этих рассуждениях о рациональном обществе технократии, управляемой хоть учёными-инженерами, хоть Машиной, есть одно слабое место.
Во-первых, на примере самих технократов-инженеров-учёных мы постоянно видим, насколько на самом деле эта публика далека от постулируемой рациональности. То есть достаточно посмотреть на того же Маска с его приколами, чтобы понять, как часто рацио там застилается всевозможными эмоциями и завихрениями.
С другой стороны, когда нам говорят, что общий/сильный ИИ в будущем заменит иррациональных человеков своей идеальной рациональностью, и вот он-то уж точно будет беспристрастно управлять-распределять, постоянно забывают про груз иррациональных предрассудков, который машина наследует от своих создателей. Разработчики сознательно или бессознательно закладывают свои идеологические и личные аберрации на уровне дизайна, искажения и предрассудки проникают на уровне набора данных, на которых ИИ обучается, на уровне модераторов и разметчиков, структурирующих и исправляющих эти наборы и так далее.
И это мы даже не касаемся иррациональных искажений самого механистического мышления, лежащего в основе современной техники, о которых пишет тот же Юнгер (или если вам ближе «левая обёртка» — Букчин).
Иллюстрация: Обложка официального журналаTechnocracy Inc.
Недавно узнал, что дед Илона Маска в конце 30-х состоял в организации, которая буквально называлась «Технократия Инкорпорэйтед», вместе с занимательной теорией заговора, что шальную мысль отжать Гренландию Трампу нашептал как раз Маск (или кто-то из его тусовки), вдохновившись идеями деда о технократической утопии на отдельно взятом континенте.
Конечно, замыслы Технократии Инк. больше напоминают мечты о Полностью Автоматизированном Лакшери Коммунизме, нежели правый неолиберальный/неореакционный проект, с которым мы обычно ассоциируем технократию сегодня.
Подробно про идеи можно почитать в этой статье, но краткая суть примерно такая. На смену финансовому капитализму, порождающему праздный класс банкиров, неравенство и дефицит, должно прийти суперрационализированное царство техники и изобилия под руководством инженеров. Хайлайты такие:
- вместо денег стоимость товаров оценивается на основе энергии, затраченной на их производство;
- товарно-денежный обмен и рыночная экономика заменяется на распределение по «энергетическим карточкам» (учитывается произведенная работником энергия, которую можно тратить на товары у авторизованных продавцов) и плановую экономику тотального круглосуточного учёта и контроля;
- унифицированные рабочие смены на основе плавающего графика.
Самодостаточная региональная система производства-потребления на основе такой системы называется Технат, то бишь технократический коммунизм (или фашизм, как вам больше нравится) на отдельно взятом (североамериканском) континенте. Почему фашизм? Потому что в этой концепции тотальность государства доводится до логического завершения в полном отождествлении с машиной (тут стоит заметить, что государство вообще можно считать особого рода социальной технологией).
Каждый, кто читал «Совершенство техники» Фридриха Юнгера или «Рабочего» его брата Эрнста (или смотрел моё видео о технопессимизме), наверняка заметит удивительные пересечения с концепциями ТехИнк.: Инженеры у ТехИнк. — гештальты Техника и Рабочего у Юнгеров, Технат с Энергетической системой планирования у ТехИнк — Технический Коллектив с Универсальным рабочим планом у Юнгера и так далее.
Как и ТехнИнк., Юнгер говорит о глобальной унифицированной системе, на основе автоматизированной техники и ресурсного планирования, которая уничтожает границы частной собственности и претендует на то, чтобы стать универсальным устройством человеческого общества. Разница лишь в том, что ТехИнк. считали это неким проектом будущего, а Юнгер говорил о наблюдаемом факте создания такой системы в послевоенном мире.
(продолжение в следующем посте)
Уважаемый старец Уоррен Баффет (это такой легендарный инвестор-рептилоид) не устаёт повторять, что в отличие от заводов-газет-пароходов в крипте он не видит ничего, что могло бы генерировать доход (кроме чистой спекуляции), а следовательно не купит все биткоины мира и за 25 баксов.
Что упускает из виду (или делает вид, что упускает) великий оракул, так это то, что криптовалюты (кроме всего остального) уже давно стали частью индустрии развлечений и более широкого рынка масс-медиа, в который сам Баффет не перестаёт вкладываться.
Прежде всего, крипта превратилась в главное казино мира, легко потеснив все азартные игры, ставки на спорт, лотереи и другие пристанища лудоманов. И не только потеснила, но и везде пустила свои корни — от онлайн-покера до ставок на любые события, типа платформы Polymarket. В резюме и вакансиях эти сферы теперь перечисляют через запятую — igaming, betting, crypto.
Крипта вообще стала популярнейшим хобби для взрослых мужчин, даже исключая лудоманов (при этом, по опросам, такое увлечение потенциального партнёра женщины находят не слишком привлекательным) — гики, айтишники, дальнобойщики, порядочные семьянины по вечерам и на обеде рассматривают графики, выполняют квесты и шерстят хвиттер в поисках ~~халявы~~ тайной монетки, которая сделает их богатыми.
Чтобы оценить геймификацию крипторынка и её ориентацию на развлекательный процесс достаточно посмотреть на интерфейс любой криптобиржи с разноцветным калейдоскопом иконок-токенов, бесчисленными встроенными мини-играми, лотереями и конкурсами. Ну и, конечно, как и в случае с азартными играми, крипта активно прорастает во все остальные уголки индустрии отдыха и рекреации — от видеоигр до вебкама с запрещёнными субстанциями.
Однако кроме индустрии развлечений (которую Баффет тоже не особо жалует) у крипторынка есть и другое измерение — медиавлияние. Криптаны — весьма широкая (чаще) платежеспособная группа населения и, как показали американские выборы, настоящая электоральная сила.
Несмотря на децентрализацию, влияние в мире крипты может трансформироваться в серьёзное влияние в информационном пространстве. Крипторынок становится медиатором для трансляции нужных сообщений аудитории, на стыке традиционных СМИ и инфлюэнсеров соц. сетей. Майкл Сэйлор, основатель компании MicroStrategy, которая построила свой бизнес на скупке биткоина, весьма красочный пример. В общем, похоже, старик Баффет немного просчитался, когда два года назад вместо битка скупалParamount.
Завтра у нас Зимнее солнцестояние, а значит снова время самой длинной ночи и возвращениякровожадного Йольского кота!
Тот, кто переживёт этот непростой момент, наверняка увидит, как начинает прибавляться свет и сокращаться тьма. Так что побольше энтузиазма и удачи, друзья! Побольше удачи и энтузиазма!
Для древних греков работа (прежде всего, конечно, физическая, но не только) на другого человека в обмен на какие-либо блага — дело весьма унизительное. Казалось бы, тут нет никакого противоречия с расхожими современными представлениями, которые легко ставят независимых мастеров-ремесленников и уж тем более предпринимателей на ступеньку выше наёмных работников.
Но именно здесь мы находим расхождение между древней и современной ментальностью. Для греков, главная проблема в работе на другого — зависимость, в которую попадает работник. Но «свободный» ремесленник, хотя и независим от конкретного работодателя, тем не менее попадает в зависимость от своих клиентов. Поэтому нет никакого особого различия между ремесленником, продающим свою продукцию, и рабочим, продающим свой труд — оба работают на удовлетворение чужих, а не своих потребностей, благополучие обоих зависит от других. Поэтому и работник, и ремесленник уже не совсем свободные люди («полис, обустроенный наилучшим образом, не сделает ремесленника своим гражданином», — заявляет Аристотель в Политике).
Но древние находят «унизительной» зависимость от клиентов (патронов) в гораздо большем числе занятий, весьма удивительном для современного человека: торговец зависим от покупателей, художник от поклонников, даже ростовщик от своих должников. Так, несмотря на развитие торговой экономики в классическое время, и в Греции, и в Риме всё ещё с презрением относились к купцам или богатым предпринимателям, живущим исключительно за счёт труда своих рабов (Claude Mossé. The Ancient world at Work).
Куда более приближенной к идеалу свободы и самодостаточности (autárkeia — автаркия) выглядит жизнь фермера, трудящегося на собственной земле и полагающегося для поддержания благополучия, прежде всего, на собственные силы (даже при наличии рабов, с которыми хозяин мог бок-о-бок трудиться в поле). Эта высокая ценность автаркии для греков, сохраняющаяся в течение всего классического периода, во многом, проистекает из более раннего периода истории. Умение самостоятельно обеспечивать себе пропитание трудом на земле, при этом защищая себя и своих подопечных, обеспечивало выживание в более тяжёлых материальных условиях архаической Греции.
Стоит отметить, что по вопросу достижения этой самой автаркии в греческой мысли существовало два противоположных подхода: один предлагал сокращать свои потребности для обеспечения внутренней независимости от внешних факторов (в наиболее радикальном виде его воплощал Диоген), другой предлагал создавать условия для удовлетворения всех своих потребностей за счёт богатства и скиллов. Наиболее красочно эти подходы сталкиваются у Ксенофонта в баттле Сократ vs Антифон. Там Сократ эффективно защищает свою позицию умеренности: сокращая свои запросы и не принимая оплату за обучение, он остаётся свободен говорить о чём угодно и с кем угодно, а не через силу общаться на темы, интересующие только того, кто ему платит. Отличный тейк и для современных блогеров, которым приходится биться за внимание-лайки-подписки, выбирая темы и тон разговора, которые наиболее соответствуют запросам аудитории и алгоритмам соцсетей.
Современное общество, конечно, куда больше ставит на подход за автаркию, поддерживаемую «финансовой независимостью». Тем не менее, в нём самые богатые люди часто оказываются тотально зависимыми от собственной клиентской (патронской) базы — главы компаний зависят от акционеров и инвесторов, политики от групп влияния, лоббистов и избирателей. В этом плане, по ксенофонтскомуСократу, современные политики, конечно, одни из самых несчастных/зависимых людей, ведь идеал автаркии позволяет «беседовать только с теми, с кем нравится» и «заводить лучших друзей».
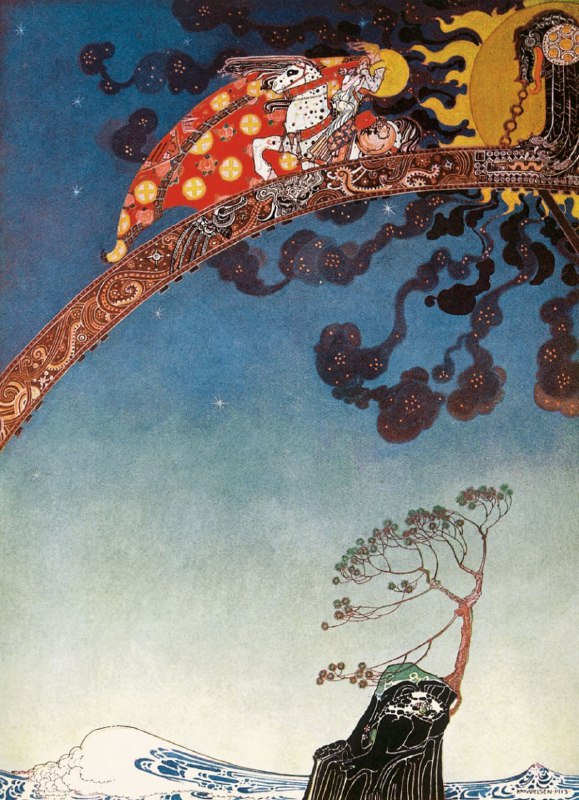

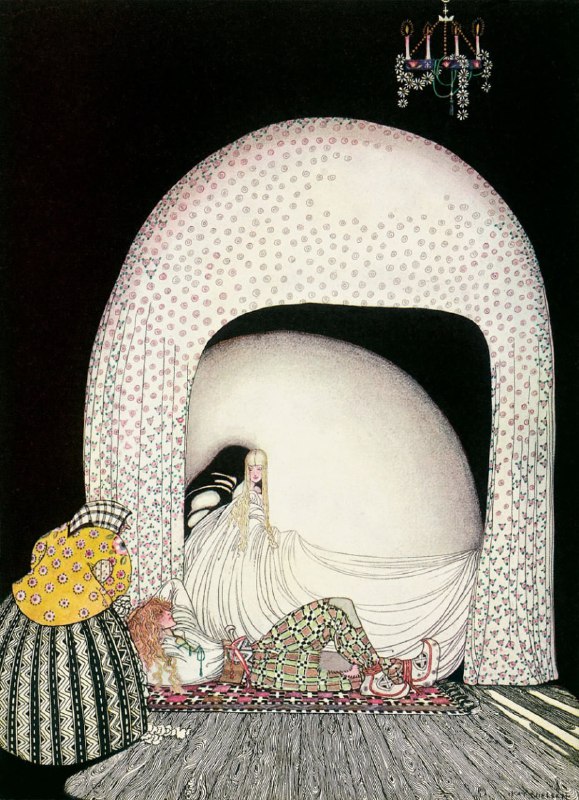
Слово «свобода» (“ama-gi”) впервые появляется в шумерских клинописных табличках около 2400 г. до н.э., причём в древнем исполнении оно дословно переводится как «возвращение к матери».
Такое значение связывают с практикой освобождения от долгов и долгового рабства, в том числе от принудительной службы правителю за налоговую просрочку. В этом смысле освобождение от кабалы становилось буквальным возвратом должника обратно в семью — «возвращение к матери».
Ama-gi также могло означать обретение независимости от самых разных насильственно навязанных обязательств, угнетений и наказаний, «возврат к изначальному состоянию» (до наложения ограничений) и впоследствии «свободу» в общем смысле.
По поводу первого появления термина в письменных источниках есть две версии — более и менее романтичная.
По основной (более романтичной) версии, в ходе народного восстания, свергнувшего старый тиранический режим в городе-государстве Лагаш, собрание жителей избирает своим правителем лидера восстания Урукагину, который проводит прогрессивную антикоррупционную реформу (её иногда называют первым известным законодательством), даруя народу (восстанавливая) ama-gi.
Несмотря на прогрессивные изменения, которые должны были поумерить излишества местных элит, правление Урукагины по итогу окажется весьма противоречивым (никогда такого не было и вот опять!). К примеру, при нём особенно возвышаются женщины из знатных родов и королевской семьи: Урукагина в 30 раз расширил царский «Дом женщин», переименовал его в «Дом богини Бау (Бабы)» и отдал во владение огромные площади земли, конфискованные у бывшего жречества, поместив всё под надзор своей жены Шаши (вот вам и «возвращение к матери»). С другой стороны, его законы, направленные на уничтожение «пережитков полиандрии» (многомужества), некоторые исследователи рассматривают как древнейшее письменное свидетельство поражения женщин в правах.
По другой (менее романтичной) версии, первый раз “ama-gi” появляется в указах более раннего шумерского правителя Энтемена, который в качестве меры своеобразного древнего вэлфера «вернул мать ребёнку и вернул ребёнка матери», то есть отменил практику передачи жён и детей в долговое рабство.
Шумерское понимание «свободы» как «возвращения к матери» находит и более эзотерические толкования в стиле «возвращения к природному источнику, дарующему освобождение от ограничений», или даже к матрицентричной атмосфере органического (дописьменного) общества (у М. Букчина).
Вообще же, учитывая тесную связь института долга и института рабства (Д. Грэбер «Долг, первые 5000 лет»), восхождение понятия «свобода» (в социальном контексте) к «освобождению от долгов» выглядит весьма логично и остаётся актуальным даже сегодня, особенно в контексте неумолимого роста закредитованности населения, российского и не только. Причём современные правители не спешат даровать ama-gi своим подопечным — даже участники боевых действий могут рассчитывать лишь на списание процентов во время службы, полная же «свобода» зарезервирована для самых исключительных случаев.
Иллюстрация: “ama-gi”, классической шумерской клинописью.
Зарегистрировала канал в Роскомнадзоре.
Номер заявления: 4926690846
Реклама: [email protected]
Ютуб: 2М https://youtube.com/@lyapotanya
Last updated 1 year, 2 months ago